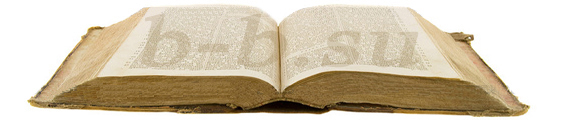Геннадий Фиш. Клятва. — М.: Молодая гвардия, 1957.— 382 с
Сенаторы бежали на север. Белые отряды в Вазе атаковали русские казармы. Красногвардейцы в Хельсинки заняли здание сейма.
— Да здравствует революция!
Законники отлично всё предвидели. Перед тем как напасть на нас, они угнали десятки продовольственных поездов на север, а мы остались без муки, без хлеба...
Эх, надо было действовать нам раньше и действовать решительнее. Мы слишком тянули. Главное — начать.
— Да здравствует революция!
Это кричит во всю силу своих легких приятель мой Линола у него на шапке красная ленточка, красная розетка в петлице и красный треугольный флажок на штыке. И у меня тоже на шапке, и в петлице, и на штыке красные лоскутки. Мы — красногвардейцы вокзального отряда.
— Слушай, — говорю я товарищу Линола, — ведь не все сенаторы бежали, не все белогвардейские зубры ушли на север. И здесь где-нибудь они таятся. Кто-нибудь же должен их арестовать. Почему бы нам с тобой не заняться этим делом?
— У нас нет на это приказа, Эйно, — отвечает мне Линола. Но я по его загоревшимся глазам вижу, что ему чертовски
хочется ввязаться в это дело.
— Э, пока будем ждать приказа — они все разбегутся, как тараканы.
Мы достали список сенаторов и депутатов сейма. Вычеркнули фамилии бежавших — не слышать бы о них больше никогда! — узнали адреса тех, кто, по нашему мнению, должен был бы проживать еще в городе.
Квартира первого депутата, к которому мы пришли, была заперта. Мы звонили так, что чуть не оборвали звонок.
Прислушивались — не услышим ли хотя бы робких шагов за стеною... Тишина.
— Надо взломать дверь и произвести обыск, — говорю я.
— У нас нет для этого предписания, — отвечает присоединившийся к нам по дороге красногвардеец.
Я звоню в штаб отряда:
— Что делать?
— Оставить одного часового и ждать дальнейших распоряжений.
И мы, оставив дежурного с винтовкой, двинулись дальше.
С Александровской мы пошли на Обсерваторную. Нам сразу же открыла дверь миленькая барышня. На ее прическе была белая наколка горничной. Когда Линола назвал ее «товарищ», она широко раскрыла глаза.
— Где твой хозяин? — спросил Линола.
— Мой хозяин болен. Он лежит сейчас в лечебнице Кель-берга на Фабианской улице, — вспыхнув, ответила она и захлопнула дверь перед нашим носом.
Третьего депутата тоже дома не было, и неизвестно, куда он скрылся. Дородная его жена беспокоилась и спрашивала, не известно ли нам, где находится ее муженек, — не убили ли его пьяные матросы?
Сударыня, — возмущенно сказал ей Линола, — предлагаю вам не распространять буржуазной клеветы на наших товарищей, революционных моряков! Они помогли нам добиться независимости, и они помогут нам расправиться со всей буржуазной шайкой.
Депутатша всплеснула своими короткими руками и еще больше забеспокоилась:
Что вы, что вы, родные...
Мы не стали слушать ее болтовню. Мы спешили уже по другим адресам. И вот опять в одной сенаторской квартире сказали нам:
— Сенатор очень болен. Он находится на излечении в частной лечебнице.
На той же площадке, к нашему счастью, находилась квартира и другого подозрительного депутата. Начищенная медная дощечка сияла. Дверь приоткрылась.
Линола дернул за ручку, дверная цепочка натянулась до отказа. «Странно, почему всюду встречают нас только женщины?»
— К сожалению, господина нет дома. Он болен. Он находится на излечении в одной частной лечебнице.
— Слишком много больных сенаторов и депутатов в один день, — говорю я.
— Животы от страха свело, — шутит Линола.
И я вижу, что лицо его позеленело. Он хватается рукой за перила.
— Что с тобой, Линола? — пугаюсь я за товарища. Дверь по-прежнему полуоткрыта, и из-за нее глядит пара
любопытных глаз.
— Сейчас пройдет, — побледневшими губами шепчет Линола. — Тошнит немного. Понимаешь, второй день хлеба не видел. — И он выпрямляется.
Он старается улыбнуться.
— Да вы бы так и сказали сразу, зачем вам нужен мой муж! — как будто даже обрадовалась женщина и захлопнула дверь.
Мы начали спускаться по лестнице. Вдруг дверь депутатской квартиры снова отворяется. Женщина кричит нам вслед:
— Постойте, парни, куда вы? Возьмите вот это! — Она протягивает нам два ломтя свежего пшеничного хлеба.
У меня прямо засосало под ложечкой. «А, вот почему они против максимальных цен, против введения карточек...»
— Возьмите хлеб, — говорит нам женщина. И тогда Линола оборачивается и кричит ей:
— Замолчите!
А мне приходит в голову мысль спросить ее, чем же, наконец, болен ее муж и в какой лечебнице его лечат.
— Почки и печень, — быстро, словно вызубренный урок отвечает она. — Фабианская улица, лечебница Кельберга... Возьмите хлеб...
Тогда Линола щелкает затвором винтовки, и женщина, воскликнув «господи!», быстро захлопывает дверь.
Я поднимаюсь обратно на только что оставленную нами площадку и стучу в дверь соседней сенатской квартиры.
— Что ты делаешь? — хочет остановить меня Линола. Он уже совсем оправился. — Мы ведь здесь уже были.
— Да, были. Это ничего не значит, — отвечаю я. И снова распахивается дверь.
— Извините, мы забыли спросить, чем болен господин сенатор и в какой лечебнице его пользуют.
— Почки и печень. Фабианская улица, частная лечебница Кельберга.
И дверь закрывается.
— Ты понял,— говорю я Линола, — чем болеют правители? Почки и печень.
Мы идем обратно, к первому законнику. Снова открывает нам дверь горничная с наколкой.
— Я уже вам все сказала, — говорит она, увидев нас на площадке. — Чего вам еще надо?.
— Мы пришли полюбоваться тобой и разъяснить тебе, деревенщина, закон тридцать первого января , — шутит Ли-нола.
И щеки горничной краснеют. Она опускает глаза.
— Извольте сказать, чем болен ваш хозяин? — говорю я официальным голосом.
— Печень и почки.
— Фабианская. Частная лечебница Кельберга, — подхватывает ей в тон Линола.
Девушка смущенно молчит.
— Ну?
— Зачем вы спрашиваете, если уже справлялись в лечебнице, — говорит она и закрывает дверь.
Мы одни на площадке. Линола начинает смеяться.
— Подожди, — говорю я ему, — нам еще хватит времени посмеяться.
И мы снова заходим к толстушке, которая хотела нас разагитировать. Она уже больше не суетится, не беспокоится.
— Мне только что позвонили по телефону, и я знаю, где муж. Он заболел. Был вчера вечером у друзей... Припадок. Его отвезли в частную лечебницу Кельберга на Фабианской улице. Знаете, возраст такой... В ваши лета это трудно понять. Вы прислушиваетесь только к самым крайним мнениям. Совсем как мой муж в молодости. Он даже за это пострадал во времена Бобрикова...
Но мы не слушаем ее дальнейших разглагольствований и быстро спускаемся вниз по лестнице на свежий морозный воздух. Все тело кажется необыкновенно легким, но винтовка тяжела и очень хочется есть.
— Надо немедленно сообщить штабу о том, что готовится заговор и контрреволюционные вожаки собираются в лечебнице Кельберга. Вот хорошо — мы всех их одним махом и накроем.
Когда мы проходили мимо железнодорожной площади, меня кто-то громко окликнул. Это был начальник отряда Красной гвардии, в котором находились Линола и я.
— Это безобразие, товарищи, вы подрываете дисциплину: уходите из отряда без спросу. Вы должны быть сейчас на вокзале... А тебя, Эйно, я уже два часа ищу по очень важному делу. — И, не дав нам промолвить слова в свое оправдание, начальник спрашивает меня: — Ты говоришь по-русски?
— Как же, — с радостью отвечаю я. — Я с двенадцатого года ездил проводником Хельсинки — Пиетари. Но жандарм-
ское управление в пятнадцатом году запретило мне появляться в России за провоз нелегальной литературы, и тогда меня запрятали в Рованиеми, а с шестнадцатого года я здесь, старший рабочий — приемка груза из России по русским накладным.
— Ну вот, значит, я не ошибся. Все в порядке. Ты получаешь срочное назначение в Россию.
— Товарищ начальник, что же это такое, здесь у нас революция, каждый красногвардеец нужен, а меня отсылают подальше от боев?..
Тогда начальник улыбнулся и сказал:
— Тебе дается очень важное поручение. Отправляйся немедленно в железнодорожное управление, скажи, что тебя направил я.
Я пошел, куда мне было приказано, а Линола заторопился в центральный штаб Красной гвардии: сенаторы должны быть разоблачены.
Раньше в комнатах железнодорожного управления царил образцовый порядок, скрипели перья чиновников, стучали ун-дервуды, шуршали казенные бумаги. Теперь же люди суетились, переходили из комнаты в комнату быстрыми шагами; столы в некоторых кабинетах были сдвинуты; в одной комнате вповалку, прямо на полу, спали красногвардейцы. В комнате, куда меня послал начальник, было очень оживленно. Люди о чем-то спорили между собой.
Я подошел к столу, за которым, по-моему, должен был сидеть старший, и отрекомендовался.
Старший спросил, понимаю ли я по-русски.
— Понимаю.
— Отлично. Тогда знакомься. Это будет твой комиссар. — И он указал на высокого крепкого человека, самоуверенного, я бы даже сказал — важного.
Оказалось, он старший кондуктор. А кто из старших кондукторов не выглядит важным человеком? Несколько раз работал я в его поезде. Но тогда я даже подумать не мог о том, что Кар-вонен — член партии.
— Куда меня назначают? — спросил я.
Товарищ Карвонен спокойно вытащил из кармана пиджака истрепанную буржуазную газету и сунул мне под нос заметку, обведенную синим карандашом.
В заметке говорилось о том, что година страданий финского народа продолжается, что один субъект, некто Рахья, привел в Хельсинки поезд со спиртом. Другой, брат его, Иван Рахья, доставил транспорт оружия, целый поезд. И в заключение заметка иронически выкликала, не найдется ли где третий брат, который доставил бы голодающим финнам поезд с хлебом.
Последнее обновление:
Воскресенье, 26 Февраля 2017 года.
|